- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
История и облик юридической корпорации
Позднетюдоровская и раннестюартовская эпоха стала периодом изменений английского юридического сообщества: традиционные устоявшиеся границы юрисдикции между судами цивильного и общего права были оспорены, что, в свою очередь, становилось причиной как открытого институционального конфликта, так и обширной политико-правовой дискуссии.
Обе корпорации претендовали на то, что именно их правовая система являлась подлинно национальной — в более узком «англоцентричном» или более широком «британском» смысле.
По мере своего развития конфликт изменял облик самих корпораций. Специфические факторы и явления, конституировавшие оба юридических сообщества, не просто приобрели свою наиболее четко выраженную форму, но стали предметом рефлексии (пусть даже весьма частичной) современников — участников конфликта.
Столкновение двух юридических корпораций в раннестюартовской Англии представляло собой многоуровневое комплексное явление, для более глубокого понимания которого историк вынужден обращаться к разнообразным методам исследования. Одним из эффективных подходов к изучению данной проблематики является дискурс-анализ.
Интересно
На социальном уровне благодаря лингвистическим репрезентациям дискурсивные практики могут в процессе диалога влиять на формирование групп, устанавливать или разрушать отношения власти и соподчинения между социальными, профессиональными, этническими и гендерными группами.
Дискурсивный подход позволяет проследить и проанализировать связь между языковыми средствами, риторическими приемами, формами коммуникации, способами аргументации и ведения полемики — то есть конкретными лингвистическими практиками — и трансформацией политических и административных структур.
Современные представления о формах идентичности предполагают разделение идентичностей на так называемые «сильные» и «слабые».
«Сильные» формы идентичности основаны на фундаментальной и долговременной самоидентификации, в то время как «слабые» характеризуются подвижностью, сложностью, часто — недолговечностью, а также во многом определяются конкретным социальным и историческим контекстом.
Формирование «слабых» идентичностей и связанных с ними дискурсов обусловлено множественностью факторов (нормативными, экономическими, правовыми и иными практиками).
В зависимости от социального контекста набор этих факторов и степень их воздействия меняются, что сказывается на развитии данной идентичности или, напротив, ведет к ее «растворению».
Эволюция двух социопрофессиональных групп (английских цивилистов и юристов общего права) — пример взаимодействия подобного рода «слабых» идентичностей.
Обе группы к началу XVII столетия уже имели длительную историю, в которой, как и в истории формирования любой группы, можно выделить несколько этапов.
Во-первых, это процесс непосредственного формирования исходной общности, которая является основой для развития любой идентичности.Во-вторых, институциализация этой общности, то есть взаимодействие с уже существующими институтами или формирование новых.
В-третьих, адаптация — трансформация внутригрупповых норм под воздействием внешних факторов и, наконец, интеллектуализация (механизмы конструирования коллективной памяти, формирование собственного дискурса).
Эти этапы могут быть пройдены общностью последовательно, однако в большинстве случаев можно говорить о параллельном прохождении двух или нескольких этапов (например адаптации и интеллектуализации).
Формирование социопрофессиональной общности, как правило, продолжается по мере взаимодействия с разнообразными институтами, структурами и группами, а интеллектуализация нередко сопровождается институциональной конкуренцией с другими фигурантами социопрофессионального поля.
Обе английских юридических корпорации прошли длительный этап институциализации, растянувшийся на несколько столетий.
Уильям Фулбек давал иную формулировку: «общее право есть обычная практика или общее для всех суждение» (“common law is common use or common reason”).
Термин reason в данном контексте означал не врожденную естественную мыслительную способность, а логику принятия решений, комплекс знаний и умение их применять.
А потому неизменность основ общего права парадоксальным образом сочеталась с динамикой их непрекращавшегося воспроизведения и применения в конкретных условиях единичного прецедента.
Однако право, понятое как практика и не имеющее четко очерченной теоретической основы, могло стать «осязаемым» и реализоваться лишь через систему конкретных институтов. При этом, будучи результатом развития английского неписаного права, оно могло реализоваться лишь в Англии и лишь в английской институциональной системе (или в условиях экспорта этой системы).
Здесь также кроется объяснение, почему бóльшая часть исследовательской традиции истории общего права, начиная с Кока и Блэкстона, использует «институциональную схему» организации и систематизации материала как наиболее выигрышную.С точки зрения теоретиков общего права, система судебных институтов и была системой административной, а сами юристы не только вершили правосудие, но и разделяли функцию упорядочения общества, которая являлась преимущественной характеристикой власти короны.
Четыре судебных инна (подворья) — Линкольнз Инн, Грейз Инн, Миддл Темпл и Иннер Темпл были местом совместного обитания и одновременно обучения юристов общего права, единственным местом и единственными корпорациями, в которых возможно было овладеть основами данной юридической системы.
Интересно
Примечательно, что инны, снискавшие репутацию «английского юридического университета», не были в строгом смысле корпорацией в средневековом значении: их статус не был подтвержден королевской хартией, а внутренняя организация регулировалась серией статутов и ордонансов, издаваемых членами инна.
Поэтому, несмотря на востребованность и престиж самой юридической профессии, статус иннов формально не был сравним со статусом и соответствующими привилегиями университетских корпораций.
По приблизительным оценкам, население иннов на протяжении XVI – первой четверти XVII вв. составляло от 700 до 1 000 человек, среди которых были представлены разнообразные возрастные группы и профессиональные категории — от студентов, едва приступивших к обучению, до практикующих барристеров.
В иннах также могли поселиться учителя, обучавшие предметам, не связанным с юридической профессией (риторике, танцам, фехтованию), и слуги.
Часть членов корпорации юристов общего права жила вне иннов: высокопоставленные судьи имели собственные дома, сержанты (элита барристеров) обитали в «сержантском инне».
Предполагалось, что, кроме так называемых «чтений» и учебных судебных процессов, составлявших преимущественные формы обучения в иннах, студенты присутствовали на заседаниях вестминстерских судов, таким образом сразу же начиная практическое знакомство с профессией.
Длительный процесс подготовки судей общего права, требовавший вовлечения в практическую деятельность судебных институтов, объем и специфика изучаемого материала в определенном смысле «замыкали» их внутри собственной институциональной системы.
В то же время сами инны отнюдь не были закрытыми общинами монастырского типа: напротив, они были местом бурной социальной и культурной активности; многочисленные и тесные связи, в том числе и патронатные, обеспечивали постоянный контакт иннов с двором и парламентом, особенно с палатой общин.
Парламентская и придворная карьера была достаточно обычной для тех, кто обучался в судебных иннах, что, насколько можно предположить, в глазах юристов общего права делало институты, не являвшиеся судами общего права, вовлеченными в орбиту их деятельности.
Интересно
Отсюда следовала убежденность в том, что для административных, консилиарных или репрезентативных институтов являются нормативными тот же самый стиль мышления и те представления, которые формировались в судебных иннах и вестминстерских судах.
Институционализация цивильного права и складывание корпоративной идентичности цивилистов проходила совершенно иначе.
Развиваясь прежде всего как университетская дисциплина и имея своей целью трактовку и интерпретацию уже известного комплекса текстов и идей, цивильное право не было в той же степени «зависимо» от институциональной реализации, как право общее.
Университетское образование, даже если оно в итоге не приводило к желаемому результату — докторской степени, открывало перед его обладателем самый широкий спектр возможностей для карьеры, которая могла продолжаться как в самой Англии, так и на континенте.
Относительно медленное складывание самостоятельной корпорации (и, как следствие, корпоративной культуры и автономного дискурса) английских цивилистов определялось тем, что с момента начала обучения они уже были вовлечены в более масштабную и устойчивую корпорацию, прежде всего в церковную структуру, поскольку большинство средневековых цивилистов были, разумеется, клириками.
Кроме того, они были включены в корпорации университета и его колледжей, где изучаемая дисциплина была далеко не единственным фактором организации внутреннего пространства.
Статус цивильного (равно как и канонического) права как самостоятельной дисциплины позволял проводить четкую границу между разработкой теории права — его «академическим» изучением, практикой применения в уже существующих судах и карьерой выпускников юридических факультетов и докторов права, которая не всегда была непосредственно связана с юриспруденцией.
Кроме того, для цивилистов совершенно ясным было качественное различие между образовательными, судебными и административными институтами.
Изучение цивильного права в университете Оксфорда началось с конца XII столетия, а в Кембридже — с начала XIII в. (это касается по крайней мере канонического права).
Ранее, как и позднее, студентыангличане имели возможность отправиться на учебу в университеты Болоньи и Парижа. Изучение римского права в этот период считалось дополнением к изучению права канонического, однако объем изучения цивильного права постоянно увеличивался.
К 1283 г. минимум три года лекций по цивильному праву было необходимо прослушать для начала практики в королевских судах.
Для практики в суде Арки в 1295 г. требование было увеличено до четырех или пяти лет, причем предполагалось, что во время обучения в университете кандидат также посещает заседания данного суда, знакомясь с основами судебного процесса согласно нормам цивильного права.К 1340 г. от будущих адвокатов требовали по крайней мере степени бакалавра цивильного или канонического права.
После Реформаци и запрета изучать каноническое право как самостоятельный предмет в университетах, цивилисты обрели монополию на преподавание права в университетах Оксфорда и Кембриджа.
Относительно того, почему именно цивилисты, а не юристы общего права снискали королевскую милость, среди исследователей нет единого мнения.
Интересно
Принимая во внимание далекоидущие внутри- и внешнеполитические амбиции Генриха VIII, можно вслед за Д. Кокиллетом предположить, что более активное осмысление как античного римского, так и средневекового «имперского» правового наследия должно было дать теоретические основания и подсказать пути практической реализации аналогичного «имперского» пути для английской монархии.
В 1530−1533 гг. король мог в полной мере оценить пользу цивильного права, когда падуанские цивилисты по просьбе монарха на основе Corpus juris civilis и его средневековых комментариев подготовили текстовую базу для дальнейшего разрыва с Римом.
Генрих VIII лично обращался к кодексу Юстиниана, когда ему потребовалось обосновать право короля на законодательство в отношении церкви. Возвышение цивилистов произошло в промежутке между 1540 и 1546 гг., когда согласно монаршей воле были учреждены королевские кафедры (Regius professorship) цивильного права в обоих английских университетах.
Профессор назначался непосредственно монархом и от него же получал стипендию в размере 40 фунтов в год.
Карьера первого профессора королевской кафедры цивильного права Джона Стори (1504−1571) полностью отражала характерное сочетание открывавшихся перед цивилистами перспектив и неустойчивости положения.
В 1541 г. католик Стори был назначен на должность профессора королевской кафедры. На протяжении трех
царствований наследников Генриха Тюдора — Эдуарда VI, Марии и Елизаветы — Стори неоднократно попадал в заключение, оказывался в изгнании, избирался в парламент, участвовал в процессах над протестантами, сам обвинялся в государственной измене, был четвертован и повешен как пособник испанцев в 1571 г., удостоился причисления к лику блаженных католической церкви в 1886 г.
В перерывах между захватывающими жизненными коллизиями Стори читал оксфордским студентам лекции по Юстиниановскому кодексу.
В Кембридже, где были учреждены кафедры, аналогичные оксфордским, первым королевским профессором цивильного права стал Томас Смит (1513−1577), изучавший право в Париже и получивший докторскую степень в Падуе.
Прежде чем получить кафедру в 1543 г. или в 1544 г., Смит занимался преподаванием греческого языка и исследованием греческой фонетики; был вице-канцлером Кембриджа и провостом Итонского колледжа.
В период регентства Сомерсета был назначен государственным секретарем и исполнял различные дипломатические миссии, за что в 1548 г. был возведен в рыцарское достоинство.Потеряв все свои должности в правление Марии, убежденный протестант Смит с лихвой вернул утраченное при Елизавете.
Благосклонность королевы, не только вновь сделавшей Смита государственным секретарем, но и канцлером ордена Подвязки, сыграла с ним, однако, злую шутку. Опытному дипломату и верному советнику были препоручены огромные земли в Ирландии, которые ему предстояло заселить английскими поселенцами.
Эту миссию Смит с блеском провалил, что не помешало ему стать одной из самых влиятельных фигур в сфере социально-правовой рефлексии в XVI и XVII вв.
Интересно
Опубликованный посмертно трактат Смита “De Republica Anglorum” не просто был первым заметным произведением, вышедшим из-под пера английских цивилистов в XVI в.
Представленная в трактате структура английского общества и формулы, характеризующие «смешанную» форму английской монархии, многократно воспроизводились теоретиками последующего столетия, став своего рода «образцовыми».
При Елизавете цивилисты продолжили пользоваться высочайшим расположением. В 1597 г. сэр Томас Грешем, финансист Елизаветы Тюдор и основатель Королевской биржи в Лондоне, по завещанию выделил средства, на которые был основан Грешем-колледж, где в числе семи кафедр (астрономии, богословия, математики, музыки, медицины, риторики) была создана и кафедра цивильного права.
В университетах также издавалась необходимая для обучения и практики цивилистов литература153. Одной из первых публикаций стал трактат Уильяма Линдвуда ‘‘Constitutiones provincialis Ecclesiae Anglicanae”.
Труд Линдвуда долгое время оставался одним из самых востребованных изданий по каноническому праву англиканской конфессии.
Часть учебной литературы имела хожение среди студентов в рукописном варианте: так, один из немногих существовавших трактатов по практике и процедуре судов канонического и цивильного права — “Praxis in curiis ecclesiasticis” Фрэнсиса Кларка распространялся в рукописи среди студентов и преподавателей Оксфорда на протяжении долгих семидесяти лет, прежде чем был напечатан в Дублине в 1666 г.
Публикация в Лондоне для авторов-цивилистов представлялась более выигрышной, поскольку заказчиками и, соответственно, плательщиками при публикации выступали зачастую трибуналы цивильного права — суд Арки и суд Делегатов.Кроме того, политическая и церковная элита, сконцентрировавнная в Лондоне, представляла собой более перспективный рынок сбыта, чем оксфордские и кембриджские студенты.
Нужно отметить и еще одну деталь, впрочем, вполне очевидную: в Оксфорде и Кембридже не печатались (за крайне редкими исключениями) сочинения судей общего права, равно как и источники для их юридической практики («отчеты» и годовые книги).
В данном случае издательская детятельность полностью определялась обширной клиентелой судебных иннов. Негласное правило о недопущении общего права кануло в лету лишь после публикации в Оксфорде в 1760 г. «Комментариев» Блэкстона.
Впрочем, основная масса трактатов цивилистов неизменно печаталась в Лондоне, а в некоторых случаях — за границей, прежде всего в протестантских княжествах Германии.
Сочинения цивилистов начикнают активно издаваться в Оксфорде в начале XVII столетия, прием некоторые (например трактаты Ричарда Коузина “Ecclesiae Anglicanae politeia in tabulas digestas” и Томаса Ридли «Обозрение цивильного и церковного права») ранее уже были изданы в Лондоне.
Настоящий взлет публикационной активности «университетских» цивилистов связан с именем Ричарда Зуча, который был назначен профессором королевской кафедры в Оксфорде в 1620 г.
Именно Зуч способствовал переизданию текстов Ридли, Коузина и Чарлза Моллоя в контексте развернувшейся полемики о господстве над морями, а также трактата пуританина Калибьюта Даунинга «Рассуждение о церковном состоянии этого королевства в отнесении к состоянию цивильному».
Интересно
Деятельность Зуча на королевской кафедре, однако, совпала не только с финальной фазой противостояния двух юридических корпораций, но и с великим мятежом, в ходе которого он, будучи роялистом, вынужден был окончательно покинуть Лондон и обосноваться в Оксфорде.
Преобразования Генриха VIII повысили престиж цивильного права и увеличили количество желающих получить университетскую степень доктора-цивилиста.
Можно также говорить об изменениях подходов к изучению этой дисциплины — своеобразном «гуманистическом повороте», коснувшемся изучения и прочих университетских дисциплин.
Впрочем, несмотря на очевидное влияние гуманистических тенденций, их доминирование в среде цивилистов не было безоговорочным и имело ряд ограничений.
В целом же процесс обучения и получения степени оставался неизменным. Кроме английских университетов, англичане как до, так и после Реформации могли обучаться цивильному праву в университетах Европы.
Новоиспеченные доктора цивильного права и те, кто прекратил обучение, не дойдя до высшей ступени, был востребованы не только в судах цивильного права, но и в королевской администрации, на дипломатической службе, а также могли окончательно связать себя с одним из университетских колледжей.
Если будущие юристы общего права с самого момента занесения в матрикулы инна осознавали себя членами профессиональной корпорации, то для цивилистов получение докторской степени было лишь прологом к этому. Докторская степень была необходимым формальным условием для вступления в Общину докторов (Doctor’s Commons) — профессиональное объединение цивилистов.
Как и судебные инны, Община докторов в XVI и XVII вв. не имела королевской хартии, но получила ее в 1768 г. Докторская степень должна была присуждаться именно университетом: так называемые «ламбетские степени», присуждаемые по мандату архиепископа Кентерберийского, и степени honoris causae не давали такого права; впоследствии было оговорено условие, согласно которому член корпорации не мог принадлежать к духовенству.
Первые объединения цивилистов, как полагает Ф. Л. Уизволл, возникли около 1430 г. в связи с расширением их практики в суде Адмиралтейства.
Примерно к 1500 г. группа цивилистов начинает ассоциировать себя с определенным местом обитания. Это был дом на Патерностер-роу, рядом с т. н. «судом Арки» (диоцезный суд архиепископа Кентерберийского, расположенный рядом с церковью Святой Марии около Арки), и недалеко от суда Адмиралтейства, которое находилось в Саутуарке, на другом берегу Темзы.
Позднее Община докторов переместилась в дом на Найт-райдер-стрит, где и располагалась вплоть до ее упразднения в 1857 г. Таким образом, доктора-цивилисты стремились отделиться как от канониката собора Св. Павла, к которому они должны были формально принадлежать, так и от университетских коллегий.
К 1511 г. лондонские цивилисты структурируют свою общину — Ассоциацию докторов права и адвокатов при церкви Христа в Кентербери, которая и вошла в историю как Община докторов. Помещения Общины докторов были не только домом для юридической корпорации, но и местом проведения заседаний судов, в которых практиковали цивилисты.Главные «монополии» цивилистов — суд Арки, Рыцарский суд и Адмиралтейский суд, и еще восемь церковных трибуналов со второй половины XVI в. проводили слушания непосредственно в помещениях Корпорации докторов.
В здании Общины докторов проводилось и значительное количество слушаний суда Делегатов — высшей апелляционной инстанции королевства. Это объяснялось двумя факторами: с одной стороны, малочисленностью самих цивилистов, с другой — количеством судебных институтов, в работе которых они были задействованы, популярностью и востребованностью цивильной юстиции среди англичан и большим количеством рассматривавшихся дел.
Концентрация судов цивильного права в одной резиденции значительно экономило время, которое в противном случае приходилось бы тратить на разъезды по Лондону.
Название корпорации указывало на статус ее членов. В ее составе находились как те, кто получил степень в английских университетах, так и те, кто получил ее на континенте.
Иначе говоря, в формировании идентичности английских цивилистов важную роль играл статус и причастность профессии, изначально проницающей национальные и региональные границы.
Если юристы общего права в силу специфики прецедентного права были вынуждены обращаться прежде всего к прецедентам и комментариям, созданным в рамках именно английских судебных институтов, интеллектуальное поле, открывавшееся перед цивилистами, было несравнимо шире.
Библиотека в Общине докторов не уступала книжным собраниям судебных иннов, но заметно отличалась от них с точки зрения подбора литературы.
Несмотря на малочисленность, цивилисты, по-видимому, неизменно ощущали себя частью корпорации более обширной и древней — общеевропейской корпорации докторов права, а это, в свою очередь, становилось предметом особой гордости.
Возможно, именно уверенность в прочности своего статуса впоследствии сыграет с цивилистами злую штуку. В то время как юристы общего права прилагали огромные усилия, чтобы продемонстрировать обществу свою центральную роль в национальной английской истории, цивилисты не тратили на это время, ведь в общеевропейских масштабах значение римского права и его адептов было уже давно доказанным.
Статьи по теме
- Имперская проблематика в наследии английских цивилистов
- Дело Кальвина и проблемы Англо-Шотландской унии 1603 г.
- Дело Джона Коуэлла и полемика о юрисдикции церковных судов в раннестюартовской Англии
- Томас Смит, Альберико Джентили и проблематика абсолютной власти
- Суд Арки
- Юристы цивильного права и церковные суды
- Цивилисты и канцелярия
- Высший суд делегатов
- Цивильное право и конструирование традиции
Полезные статьи


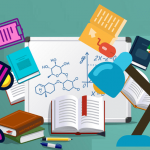






Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

